|
Александр ВОЛКОВ ТЕАТР КРАСОККраска — красная, желтая, синяя Чистые цвета. Мы встречаемся с ними в детстве. Магия их завораживает нас. Те, кто сохраняет приверженность этому колдовству цвета, становятся художниками. Со временем приходят профессиональные названия — кадмий, кобальт, ультрамарин, также и профессиональные навыки и понятия: рисунок, композиция, перспектива Мы начинаем учиться Нас нагружают опытом и правилами предшествующих поколений, знакомят с образцами высокого искусства. Возможно, для многих это становится прокрустовым ложем. Здесь кончается детское радостное общение с красками — начинается профессиональная жизнь. Но только продравшись через жесткие шоры обучения можно стать настоящим художником. Вернуться к детскому непосредственному отношению к краскам, радоваться их смешиванию, возне с текстурой нанесения на холст. Сами вечные, краски становятся смыслом и содержанием творчества. Конечно, художник, как член общества, не проходит мимо проблем своего времени и часто во главу угла своего творчества ставит острые жизненные, философские, политические вопросы, но если он при этом пренебрегает языком красок, его искусство перестает волновать нас, как и проблема, которую он решает. За него это делает время. Когда краска становится цветом и светом, когда художник наполняет их своей жизнью и кровью, когда они становятся его судьбой, тогда и рождается таинственное искусство под названием «живопись». ТАНЕЦЯ сознательно не касаюсь темы классического балета, самостоятельного вида искусства, где существует своя история зарождения, свои традиции и своя школа, где он пересекается с другими видами искусств: музыкой, скульптурой, графикой и живописью. Я имею в виду статуарность поз, графичность движения и пластику, связанную с музыкой. Нужно отметить, что балет, со своей стороны, тоже сильно повлиял на изобразительное искусство, и многие художники вдохновлялись им (например, Дега, Ритуальные танцы первобытных народов сопровождали человека на протяжении всей его жизни, начиная с его рождения и до смерти. Камлание шаманов, радение дервишей, заклинание духов — все это происходит и сейчас в танце народов, не потерявших связи со своей землей и традициями предков. Не случайно поиски самоидентификации народов начинаются с возрождения народной музыки и танцев. Вспомним грандиозные праздники песни и танца в Прибалтике, возникновение казачьих хоров, появление русских хоров и поиски забытых песнопений. Конечно, мы, жители городов, выросшие в урбанистической культуре, потеряли связь с этим ритуальным действом и большей частью остаемся зрителями по эту сторону рампы. Хотя как назвать современные танцы, когда тысячи людей на дискотеке впадают в транс, попадая в плен зажигательной музыки. Может быть здесь проявляется коллективное бессознательное. Ты можешь танцевать один, даже без партнерши, но ощущаешь сопричастность танцующим вокруг тебя людям — ты не одинок. Возможно, в эти минуты в нас на уровне генетической памяти просыпаются забытые ритмы предков. Только в движении, в момент отключения рационального мышления мы ощущаем момент восторга и вечной пульсации жизни. Время моей молодости совпало с проникновением в Советский Союз Выросло не одно поколение свободно танцующих людей. Может быть тяга к свободе движений легла в копилку многих причин, разрушивших тоталитарную систему? Мое знакомство с народной музыкой и танцами началось в Средней Азии еще в детстве. Там во многом еще не была потеряна связь с традициями: музыка, танцы, костюмы, уклад жизни были пронизаны патриархальной культурой. Бывая на свадьбах и других праздниках в отдаленных кишлаках, я слушал народных музыкантов, смотрел на танцоров, а иногда, не выдержав всеобщего заразительного восторга, и сам пускался в пляс под одобрительные возгласы публики, хотя танцевал я свободно, не соблюдая традиционных правил. Были случаи, когда на улице подходили незнакомые люди и приглашали на свадьбу как почетного гостя и просили принять участие в танцевальном действии. Не нужно, правда, забывать восточное гостеприимство: все, кто проходит по улице, где происходит той (праздник) приглашаются за стол. Естественно, в своем творчестве я обращался к теме народной музыки и танца как в скульптуре, так и в живописи. Это помогло мне найти новые формы, новые ритмы и краски. В 1989 году в Каире, где я некоторое время жил и работал, мне удалось увидеть танцы вращающихся дервишей. Конечно, я был заворожен этим действом. После представления, когда я вышел на улицу, мне показалось, что Каир медленно вращается вокруг меня, а я являюсь как бы центром мироздания. Эта тема не отпускала меня, и, вернувшись в Москву, я написал целую серию работ, показанных на выставке, посвященной Египту в музее Нового Иерусалима в г. Истре, совместно с В.Волковым. Многие из этих картин позже разошлись по музеям и частным коллекциям. У меня случился любопытный разговор с женщиной, узбекским архитектором (к сожалению, забыл ее имя), принимавшей участие в проектировании мечети в Москве. «Как Вы относитесь к философии суфизма», — спросила она меня. — «Честно признаюсь, я ничего об этом не знаю». — «Ну, как же, Вы получили эти знания через танец, который наблюдали, а потом изобразили». — « Может быть это и так, не мне судить». Вторым моментом обращения к танцу послужила сначала серия графики, а потом и живописи «Фламенко». Этот танец и музыка испанских цыган (виденный и слышанный в Москве, Лондоне, Мадриде), наполненный страстью и тоской, печалью и всплесками безудержной радости, строгим стилем и свободой импровизации — волнует меня до слез, одновременно наполняет мою душу радостью бытия и вовлекает в сотворчество. Мои работы — это не иллюстрация поз и движений «Фламенко», это свободные импровизации на музыку и ритмы, которую я слушаю в процессе работы, а иногда и пританцовываю перед мольбертом. Может быть, эта музыка мне так близка, что по семейному преданию моя бабушка была цыганка? ПОЭЗИЯМногие художники писали стихи, многие поэты рисовали. Не прошел мимо поэтических опытов и я. Часто поэты начинают писать в юном возрасте. Для меня до сих пор остается загадкой, как такие гении, как Пушкин, Лермонтов, Рембо, Есенин, Маяковский, достигали такой глубины понимания жизни, такой остроты и точности вопросов и ответов (к пониманию которых основная масса читателей приходит в довольно зрелом, если не сказать, преклонном, возрасте), облекая все это в совершенную поэтическую форму. Не избежал и я раннего поэтического экстаза. Раздалось «Бум», Гордый своим поэтическим опытом, я представил его родителям. И тут они совершили педагогическую ошибку, встретив мой опус гомерическим хохотом. Будучи самолюбивым и застенчивым, я понял, что никогда не буду больше писать стихов. Может быть, во мне умер будущий великий концептуальный поэт? И родители не поняли новой поэзии? А может быть, благодаря их реакции во мне завял графоман, которым нет числа. Не могу сказать, что в юные годы я зачитывался стихами, как многие мои сверстники. Понимание и общение с поэзией пришло с годами. Позже моим первым непосредственным опытом взаимодействия поэзии и изобразительного ряда стало создание проекта «Пересечение пространств. Поэзия А. С. Пушкина в графике А.Волкова» в Музее А. С. Пушкина в Петербурге на Мойке, 12 в 1998 г. Тогда были выставлены три серии: «Цыганы», «Каменный гость» и «Моцарт и Сальери». Художественной задачей этих работ было проникновение друг в друга и взаимодействие разных художественных пространств: цвет — звук, ритм — слово. Особое место занимал цикл «Моцарт и Сальери», состоящий из трех частей: Поэзия, Музыка и Живопись (более 35 листов). Я слушал сочинения Сальери, музыку Моцарта, вчитывался в стихи Пушкина. В результате рождались листы, стилистически разные — абстрактные и фигуративные. Сейчас, по прошествии 10 лет, возвращаясь к данной теме, я все больше проникаюсь величием поэзии А. С. Пушкина, глубиной поставленных им задач. На поверхности Сальери — бесталанный ремесленник, завистник. Моцарт — баловень судьбы, гений. Но, возвращаясь к этой теме, вновь и вновь слушая музыку как Сальери, так и Моцарта, вглядываясь в окружающую жизнь, задумываешься, что Сальери — величайший профессионал, труженик в искусстве, знающий о музыке все. Я музыку разъял как труп, Здесь А. С. Пушкин провидчески предсказал появление додекафонной, атональной, а, возможно и компьютерной, музыки. Или современной постмодернистской живописи. Я не могу смотреть, К тому же, кто так понимает и ценит гений Моцарта, как не Сальери? Сейчас, когда гениальными и культовыми произведениями называют все и вся, нам очень не хватает профессионального взгляда Сальери. И может быть, в результате противостояния таких величин и появляется Моцарт. Не будем забывать, что Бетховен был учеником Сальери и очень его ценил. Следующим моим непосредственным обращением к поэзии было создание серии, посвященной японской поэзии хокку 15 века. Меня интересовала актуальность переживания средневековой поэзии в наши дни как вечность и вневременность искусства. Японская поэзия, русская природа и мои переживания стали составляющими графической серии, выполненной в технике цветных карандашей. Мне хотелось соединить в ней свой опыт как в области абстрактных поисков, так и в конкретных пейзажах России. Может быть, тогда определилось мое отношение к поэзии в живописи. Это, в первую очередь — создание образа, не важно, абстрактного или фигуративного. Форму подсказывает конкретная задача. А также четкость ритмов. Чеканность формы. Лаконичность. На чем и строится поэзия. МУЗЫКАМузыка — величайшее искусство, не имеющее границ, доступное без перевода на другие языки. Это роднит музыку с изобразительными искусствами, однако, она имеет колоссальное преимущество — развитие во времени. Чтобы понять и оценить музыкальное произведение, нужно его выслушать, то есть музыка подчиняет нас своим законам. Возможно, музыка воздействует на особые струны души (если они есть с точки зрения материалистического восприятия мира), заставляет нас (по теории резонанса) плакать и восхищаться, переживать катарсис, находиться на одной волне с композитором или исполнителем. То есть, грубо говоря, время исполнения и время восприятия равны. Художнику сложнее. Нужно так спрессовать время в своей работе, чтобы остановить зрителя с одного взгляда. Тем более, мы живем во время интенсивной зрительной информации, обрушивающейся на нас со всех сторон. Прошли те времена, когда художник выставлял только одну картину — и это была выставка. Сейчас — время проектов и сложных визуальных решений. Но, может быть, на фоне быстро мелькающих и мельтешащих клипов живопись сохраняет первозданную связь между спрессованным временем и пространством. И зритель, захваченный движением красок на холсте и погружаясь в глубину картины, останавливается перед ней, попадая под ее магию. Это уже зависит от художника, как он сумел переплавить свои мысли и чувства при помощи красок, и уже не важно, писал ли он свою картину годы или мгновения. Ведь за временем исполнения стоят годы интенсивной работы. Для меня остается загадкой, как при помощи всем известных семи нот рождается музыка. Я не в состоянии сочинить даже самой простой мелодии. При попытке напеть Правда, сейчас мы тонем в море авторских песен, и нет ни одной, даже самой примитивной музыкальной группы, которая не писала бы своих альбомов, но это уже тема для музыковедов. Музыка всегда была для меня стимулом для творчества, в трудные минуты сомнений, упадка сил, она заряжала энергией, давала уверенность в неисчерпаемости творческих задач в уже известных формах искусства. Так, одни и те же музыкальные записи, равно как и картины или литературные произведения, в разные этапы жизни открывались Когда я пишу картину, рисую графику или леплю скульптуру, я обычно слушаю определенную музыку. Но во время работы она может звучать во мне и отдельно. Точно ли соответствует моя работа данному музыкальному произведению — не является моей задачей. Музыка помогает освободиться от собственных рутинных форм и наработок, позволяет сделать новый шаг. Но на подсознательном уровне приходит ритмическое, гармоническое и стилевое решение, поэтому следы пересечения остаются. Естественно, я не отрицаю рациональной задумки в подготовке картины, но в процессе работы я погружаюсь в стихию музыки, красок и ритмов, и именно они ведут меня к конечной цели. На этом пути бывают остановки для осмысления сделанного, для принятия волевых решений. Однако, картина становится для меня удавшейся, когда в Работа, выполненная на уровне твоего мастерства и умения, является ремесленным продуктом. Когда же случается встреча твоей воли и опыта с самостоятельной жизнью картины, происходит неожиданное завершение. Наверно, это и является наивысшей наградой за твой труд. СТРАНСТВИЯДетство мое пришлось на военные годы, так что выехать И вот машина стремительно несет меня в горы. И, наконец, они рядом, и при ближайшем рассмотрении они оказываются не голубыми, а каменными, Может быть, тут и рождается твое видение мира: ты утыкаешься в гору, и ничего поэтического и романтического в ней нет. Это натуралистический или прагматический взгляд. Но если ты продолжаешь ощущать, что это и есть твоя голубая гора, вся эта обыденность камней и земли приобретает для тебя новую красоту и ценность. Хочется двигаться дальше и открывать в этих заманчивых голубых горах новую для тебя реальность. В 1959 году я переехал в Москву на учебу, но русская суровая зима, пасмурная, длинная и холодная осень, короткое лето пробуждали во мне тоску по моей Родине, Узбекистану, где сияет солнце, где тепло и даже очень жарко. Где растут милые сердцу тополя, бегут по улицам арыки, шествуют ослики — и все это на фоне любимых голубых гор. Здесь открываются просторы предгорий, и хорошо шагать в бесконечную даль. Поэтому в течение 35 лет я в составе нашей дружной компании Об этих странствиях можно написать целую книгу. Они давали материал для новых работ, восстанавливали физические и душевные силы, особенно после напряженной жизни в таком мегаполисе, как Москва. В городе приходилось все время бороться за свою личность, отстаивать свою свободу и право на взгляды в искусстве. Зато как хорошо вырваться на свободную природу, жить в кишлаке, где люди не потеряли связи с землей. Особенно меня привлекали места, где люди живут на границе освоенных земель, а дальше начинаются пустыня, степь или горы. Часто вспоминаю утро на стойбище чабана, пожилого каракалпака. Мы остановились у них в юрте. По традициям юрта была украшена вышивками и коврами, сделанными его женой в качестве приданого, когда она была еще невестой. За годы их жизни и странствий по степям за табунами лошадей все это выгорело, на солнце потеряло цвет, но приобрело патину времени и ценность вещи, имеющей историю. В юрте у них был минимум вещей, только самое необходимое: ведь нужно постоянно собирать юрту и двигаться дальше с табуном в поисках новых пастбищ. Мы беседовали за чаем, в том числе и о смысле жизни. Только на два зимних месяца они возвращаются в родной кишлак к детям, чтобы в первые весенние дни вновь отправиться в степь на вольные выпасы своих любимых лошадей. Ранним утром я вышел из юрты. Вокруг сверкала бесконечная степь. Старик стоял, обняв молодого жеребенка за шею, помогая ему встать на ноги. Видимо, тот родился этой ночью. Глаза чабана светились радостью жизни. Широко проведя рукой вдоль линии горизонта, он сказал: «Бугутли — это хорошо!» (название данной местности). И столько было уверенности в правильном выборе своей жизни, что оставалось только позавидовать этой цельной натуре нам, жителям городов, больным рефлексией, неуверенностью, гонкой за призрачными ценностями. Со временем география путешествий расширялась, появилась возможность видеть мир. Каждое путешествие давало творчеству новый толчок. Невозможно в краткой аннотации объять все. Только наметить пунктиром. Египет — знакомство с искусством Древнего Египта на его земле, под лучами его солнца. Поражает жизнь на берегах Нила: она практически не изменилась с тех времен. И вот ты спустя тридцать лет оказываешься около пирамиды Хеопса. И от уровня твоей культуры видения зависит, что же ты воспримешь. Вспоминается такая история. Я в Луксоре сижу в кофейне ночью, рисую улицу. Полно еще открытых лавок, они ярко освещены. Все это сверкает как лавка Алладина, в тюбетейках сидят люди за кальяном. Перед лавками важно восседают хозяева. По улице лениво течет толпа в галабиях (одеяниях). Великолепный живописный сюжет. Я рисую очень быстро, схватывая ритмы цвета, динамику движения, иногда условно, почти как знак, вставляю фигуры. За мной — толпа любопытных египтян (арабов) внимательно следит за моей работой, гулом одобрения встречая появление удачных на их взгляд пятен. «Абдулла, он тебя уже нарисовал, можешь уходить!», — кричат они лавочнику. При этом они показывают мне фигуру, которую я изобразил, или лавочку. Они радостно приветствуют мою работу, угощают кофе. Им все понятно без перевода. Они почувствовали, что я также люблю и принимаю их жизнь, как и они. Идет группа наших туристов. Окружают меня, смотрят с недоумением на мои рисунки. Спрашивают, что же я изобразил. «Да вот, эта улица, лавки — все перед вами». — «Где?» — спрашивают они, смотря на мои работы. Из мозаики цветовых пятен они не в состоянии сложить цельную картину. Я понимаю, что они — представители другого видения (фотографического). С детского сада нас учили рассказывать картинки, да и дальнейшее образование построено на вербальном восприятии искусства. Отсутствие образного и декоративного взгляда (взгляда как философии, а не как украшения) мешало им понять мои работы. А что раздражает больше всего, так это то, что он знает и «видит» то, что нам не доступно. Сколько споров и непонимания, неприятия новых форм на выставках пережили художники, артисты, писатели и т.д. в советское время. Грубое вмешательство чиновников в духовную жизнь, да и нетерпимость зрителей — теперь это все позади. Правда, равнодушие и жестокость рынка убивает художника не хуже чиновников. Италия Как жаль, что наше поколение попало сюда довольно поздно. Художнику обязательно нужно видеть эту страну своими глазами, дышать этим воздухом, пропитываться удивительным светом, восхищаться искусством. Совсем не для того, чтобы стать жалким подражателем эпохи Возрождения, а учиться у них смелости, дерзости быть первооткрывателем, искать свою дорогу, не забывая о величии своих учителей. Каждый город Италии притягателен и уникален, но мое знакомство со страной началось с Венеции, где мне посчастливилось жить и работать трижды. Венеция — город с особым отсчетом времени, с удивительным сплавом великолепной Венецианской живописи, архитектуры, моря, неба — природы. Бурная дневная жизнь, улицы и каналы, заполненные туристами, сменяются прочной тишиной опустевших площадей и улочек. История вступает в свои права. Кажется, сейчас Венецию так много изображали великолепные мастера, что повторять их находки — нет смыла. Что можно добавить к точности и поэзии Каналетто? В своих работах я пытался фиксировать свои ощущения и впечатления, как бы создать психологический портрет города, как это я понимаю. Франция, Англия, США, Португалия, Испания, Германия — каждая из этих стран обогатила меня новым опытом, подарила еще один кусочек в мозаике жизни. Но каждый раз, возвращаясь из странствий в Россию, в Москву, ставшей для меня одним из самых притягательных городов мира, чувствую — здесь мой дом, и нет для меня более любимой улицы, чем Большая Полянка. А звенигородские просторы, «Как красиво, как красиво ты рисуешь!» Это пятилетний внук Вася пытливо наблюдает за моей работой. На холсте только цветовые пятна, подмалевок, никакого сюжета, понятного ребенку, но сам вид оживших на холсте красок ему нравится. Дети, которые приходят к нему в гости, тоже с удовольствием смотрят мои картины. Их реакция радует и вселяет уверенность, что растет новое поколение, которое, как и меня, радуют и волнуют краски. Как бы хотелось, чтобы, став взрослыми, они не потеряли бы эту способность! |
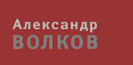 |
 |